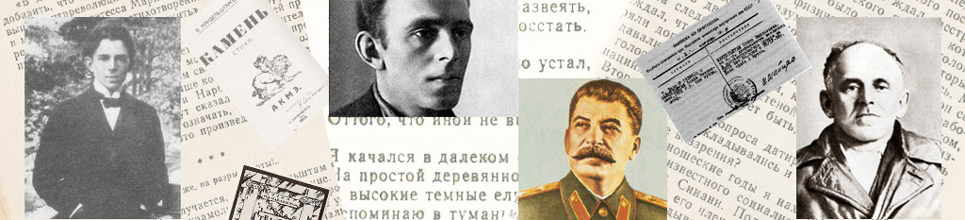| Отношения
с властью
Часть вторая. Страх. «Мне хочется бежать от моего порога…»
В стихах 20-х и 30-х годов Мандельштам активизирует диалог с собственным
временем, в них особое значение приобретает социальное начало, открытость
авторского голоса. Сверхличной темой становится то, что происходит
со страной, с народом. Новая глава – преодоление страха
<...> Мне хочется бежать от моего порога.
Куда? На улице темно,
И, словно сыплют соль мощеною дорогой,
Белеет совесть предо мной. <...>
Несколько стихотворений в 24-25-м гг., а за ними
пятилетний перерыв, почти полное молчание. В 30-м году путешествие
в Армению, цикл шершавых, терпких стихов о ней, и следом, в октябре,
- серия ужаса:
Куда как страшно нам с тобой,
Товарищ большеротый мой!
Ох, как крошится наш табак,
Щелкунчик, дружок, дурак!
А мог бы жизнь просвистать скворцом,
Заесть ореховым пирогом...
Да, видно, нельзя никак.
(1930)
ЛЕНИНГРАД
Я вернулся в мой город, знакомый до слез,
До прожилок, до детских припухлых желез. <...>
Петербург, я еще не хочу умирать:
У тебя телефонов моих номера.
Петербург, у меня еще есть адреса,
По которым найду мертвецов голоса.
Я на лестнице черной живу, и в висок
Ударяет мне вырванный с мясом звонок.
И всю ночь напролет жду гостей дорогих,
Шевеля кандалами цепочек дверных.
(Декабрь 1930)
Мы с тобой на кухне посидим,
Сладко пахнет белый керосин.
Острый нож да хлеба каравай...
Хочешь, примус туго накачай,
А не то веревок собери
Завязать корзину до зари,
Чтобы нам уехать на вокзал,
Где бы нас никто не отыскал.
(Январь 1931)
Помоги, Господь, эту ночь прожить,
Я за жизнь боюсь - за твою рабу...
В Петербурге жить - словно спать в гробу.
(1931)
Нет, не спрятаться мне от великой муры
За извозчичью спину - Москву.
Я трамвайная вишенка старой поры
И не знаю, зачем я живу.
Мы с тобою поедем на "А" и на "Б"
Посмотреть, кто скорее умрет,
А она то сжимается, как воробей,
То растет, как воздушный пирог. <...>
(Январь 1931)
Уже не просто страх - судорога, тоска предсмертная...
Пока он не совершил ничего определенно опасного, тяжелой "вины"
на нем еще нет. Некоторые стихи еще печатаются в "Звезде",
в "Новом мире", в "Литературной газете", и по
числам представляется, что издатели выдергивали невысохшие строчки
у автора из-под рук. У супругов не было ни жилья, ни денег, но то
была их хроническая болезнь, в этом смысле 31-й год обыкновенен.
Вот что в этом случае пишет о Мандельштаме его жена, Надежда Яковлевна:
«Он страха не знал, хотя мог испугаться любой чепухи… Он пугался
тени зла, но страха не знал. Объяснить этого я не могу, но видела
собственными глазами, что он прожил без страха. Его свобода заключалась
в радости. Он на время потерял радость…»
Сквозь всю лирику конца 20–-х годов проходит сквозной нитью мотив
жалобы: "И мне уже не хватает меня самого"; "Уж до
чего шероховато время, / Я все-таки люблю его за хвост ловить";
Я не хочу средь юношей тепличных / Разменивать последний грош души;
"Я — непризнанный брат, отщепенец в народной семье"; "Измеряй
меня, край, перекраивай" и т.п.
В этих признаниях-жалобах, помимо печали, настойчиво звучит и надежда
на преодоление усталости, одиночества, на то, что "придет выпрямительный
вздох".
На исходе 20-х годов Мандельштам понял всю иллюзорность надежд на
возможность равноправного сотрудничества людей культуры с властью,
понял, какой страшной и унизительной ценой надо платить за видимость
сотрудничества, увидел, на кого делает ставку власть, - и вернулся
к оппозиции, прекрасно понимая, чего это будет стоить ему.
В «Четвертой прозе», написанной на переломе от 20-х к 30-м годам,
переломе, который хрустом костей оглушил страну, Мандельштам подвел
итог своим отношениям – даже не с властью! – с гигантской системой
мировоззрения, основанного на антикультуре, на аморализме, на презрении
к личности человека. Посланец гармонической культуры сводит здесь
высокие счеты с разорванным, безжалостным, кризисным сознанием.
Прославим роковое бремя,
Которое в слезах народный вождь берет,
Прославим власти сумрачное бремя,
Ее невыносимый гнет.
В ком сердце есть, тот должен слышать, время,
Как твой корабль ко дну идет. <...>
Ну что ж, попробуем: огромный,
неуклюжий,
Скрипучий поворот руля.
Земля плывет. Мужайтесь, мужи,
Как плугом океан деля.
Мы будем помнить и в летейской стуже,
Что десяти небес нам стоила земля.
(Март 1918)
Вот что говорит по поводу "Сумерек" Илья Эренбург: "...тогда
не только я, но и многие писатели старшего поколения, да и мои сверстники
еще не понимали масштаба событий. Но именно тогда молодой петроградский
поэт, которого считали салонным, ложноклассическим, далеким от жизни,
тщедушный и мнительный Осип Мандельштам написал замечательные строки:
"Ну, что ж, попробуем: огромный, неуклюжий, скрипучий поворот
руля"..."
Для Мандельштама сущность новой власти обнажилась с первых дней,
и он ощутил роковой смысл несовместимости с нею. Предчувствие трагедии
сделалось постоянным спутником, с которым предстояло жить, но срок
развязки пока еще казался далеким.
|