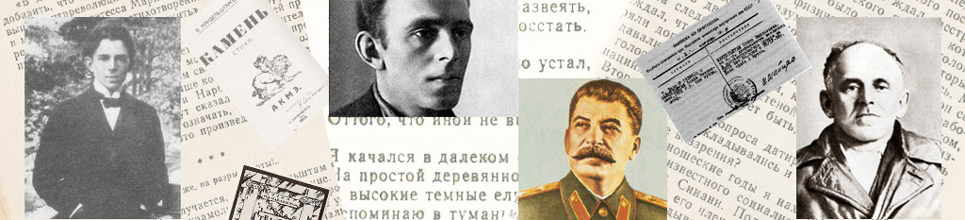|
Портрет
Немногие
из русских поэтов ощущали ход собственной жизни как историю Росси
с той силой, что присуща была в этом отношении Мандельштаму. Не
только историкам литературы, но и социальным психологам еще предстоит
думать над загадкой – почему именно Осип Мандельштам, хрупкий, тяжело
переносивший бытовые лишения (хотя и встречавший их с достоинством),
вовсе не отличавшийся бесстрашием, нестойкий на допросах, рафинированный
интеллигент-интеллектуал с измотанными нервами, а отнюдь не собранный
политический борец, почему именно он – единственный! – в страшном
1933 году (позади чудовищное преступление власти – голод, подавивший
крестьянство, впереди – убийство Кирова и террор), - почему именно
он решился бросить открытый вызов Величайшему Палачу Всех Времен
и Народов, написав и распространив стихотворение «Мы живем под собою
не чуя страны…»? Как объяснить этот феномен человека, о котором
Надежда Яковлевна Мандельштам сказала с беспристрастной точностью
– «всем напуганный и ничего не боящийся»?
Немаловажную роль в анализе литературных трудов поэта играет рассмотрение
его психо-эмоционального портрета, который в случае Мандельштама
являлся непосредственной проекцией его сложного духовного и психологического
состояния. О внешности Осипа Эмильевича сочиняли многочисленные
анекдоты и небылицы, его нестандартное поведение, экспрессивные,
порой неожиданные поступки вызывали удивление, смех, сочувствие.
Но каждая черта его говорила о неадекватности своему веку, так жестоко
перемоловшему и проглотившему его, о духе несломленном, не дававшем
покоя поэтической совести Мандельштама. Собирая воспоминания друзей
и просто современников, мысленно восстанавливая каждую мимическую
морщинку поэта, мы сталкиваемся уже не с кумиром, не с автором,
не с хрестоматийным именем, но с человеком, настоящим, когда-то
жившим, дышавшим, как мы, но только когда-то. Рассказывая о судьбе
Мандельштама, мне хотелось бы начать движение от частного, личного,
человеческого, уникального, а именно с внешности и портрета, вопреки
системе, погубившей миллионы таких же личных и частных. Для начала
обратимся к воспоминаниям и свидетельствам.
«По соседству с нами, за отдельным столиком, сидел какой-то юноша,
привлекший наше внимание своей не совсем обычной наружностью. Больше
всего он был похож на цыпленка, и это сходство придавало ему несколько
комический вид. Но вместе с тем в чертах его лица и в красивых грустных
глазах было что-то очень привлекательное…
Больше всего меня поражала в нем его необыкновенная впечатлительность.
Казалось, для него действительно были еще новы "все впечатленья
бытия", и на каждое из них он откликался всем своим существом.
В нем была тогда юношеская экспансивность и романтическая восторженность,
плохо вяжущаяся с его позднейшим поэтическим обликом» (Михаил Карпович)
1907 г.
«Щуплый, маленький, с закинутой назад головкой, на которой волосы
встают хохолком, он важно запевает баском свои торжественные оды,
похожий на молоденького петушка, но, безусловно, того, что пел не
на птичьем дворе, а у стен Акрополя. Легко понять то, чего, собственно
говоря, и понимать не требуется, портрет, в котором все цельно и
гармонично» (Илья Эренбург).
1917-18 гг.
"Осип Мандельштам пасся, как овца по дому, скитался по комнатам,
как Гомер. Человек он в разговоре чрезвычайно умный. <...>
Ахматова говорит про него, что он величайший поэт. Мандельштам истерически
любит сладкое. Живя в очень трудных условиях, без сапог, в холоде,
он умудрялся остаться избалованным. Его какая-то женская распущенность
и птичье легкомыслие были не лишены системы. У него настоящая повадка
художника, а художник и лжет для того, чтобы быть свободным в единственном
своем деле, - он как обезьяна, которая, по словам индусов, не разговаривает,
чтобы ее не заставили работать" (Виктор Шкловский).
"...это странное и обаятельное существо, в котором податливость
уживалась с упрямством, ум с легкомыслием, замечательные способности
с невозможностью сдать хотя бы один университетский экзамен, леность
с прилежностью, заставлявшей его буквально месяцами трудиться над
одним неудающимся стихом, заячья трусость с мужеством почти героическим
- и т.д. Не любить его было невозможно... <...> В часы обеда
и ужина [он] появлялся то там, то здесь, заводил интереснейшие беседы
и, усыпив внимание хозяев, вдруг объявлял: - Ну, а теперь будем
ужинать!.." (Вл.Ходасевич).
"Однако его творчество не отражало ни этой убогости, ни преследовавших
его <...> житейских "катастроф". Ветер вдохновения
проносил его поверх личных испытаний. В жизни чаще всего вспоминается
мне М. смеющимся. <...> А в стихах <...> о себе, о печалях
своих если и говорил, то заглушенно, со стыдливой сдержанностью.
Никогда не жаловался на судьбу, не плакал над собой" (С.Маковский).
«Мандельштам был одним из самых блестящих собеседников: он слушал
не самого себя и отвечал не самому себе, как сейчас делают почти
все. В беседе был учтив, находчив и бесконечно разнообразен. Я никогда
не слышала, чтобы он повторялся или пускал заигранные пластинки….
Любил говорить про что-то, что называл своим "истуканством".
Иногда, желая меня потешить, рассказывал какие-то милые пустяки.
Смешили мы друг друга так, что падали на поющий всеми пружинами
диван на "Тучке" и хохотали до обморочного состояния...
Я познакомилась с О. Мандельштамом на "Башне" Вячеслава
Иванова весной 1911 года. Тогда он был худощавым мальчиком с ландышем
в петлице, с высоко закинутой головой, с ресницами в полщеки» (А.
Ахматова).
«Мандельштам был очень ласков, — вспоминает Артур Лурье, — близких
своих друзей он любил гладить по лицу с нежностью, ничего не говоря,
а глядя на них сияющими и добрыми глазами».
«Мандельштам — самое смешливое существо на свете», — заявляет Георгий
Иванов.
А вот, что вспоминает об Осипе его младший брат Евгений: «Об учебе
Осипа в младших классах мы можем судить не только на основании моих
или Осиных воспоминаний. У меня сохранился любопытный документ —
“Сведения об успехах и поведении ученика 3 класса Тенишевского училища
Мандельштам Осипа за 1901/2 г.”. Он представляет собой перечень
характеристик Осипа и его успехов в занятиях, написанных преподавателями
различных предметов. Причем уже тогда, в гимназисте третьего класса,
некоторые преподаватели отмечают черты характера, которые сохранились
у Осипа на всю жизнь. Пожалуй, наиболее интересен в этом отношении
отзыв преподавателя географии: “Очень способный и необыкновенно
старательный мальчик, правдив, очень впечатлителен и чувствителен
к обиде и порицанию, владеет хорошо слогом...
И в годы признания и поэтической славы, и в годы неурядиц и бед
Осип оставался верен себе и очень часто в общении с людьми утверждал
свое право на исключительность, перенося это не только на быт, но
и на деловые отношения с издательствами, редакциями, Союзом писателей.
Мог написать и наговорить в такие минуты людям много обидного, оскорбительного.
Он был “взрывчатым”, быстро воспламенялся, но и легко остывал».
Н.Чуковский написал: "...у него никогда не было не только никакого
имущества, но и постоянной оседлости - он вел бродячий образ жизни
...я понял самую разительную его черту - безбытность. Это был человек,
не создававший вокруг себя никакого быта и живущий вне всякого уклада".
В.Шкловский сказал о Мандельштаме: "Это был человек... странный...
трудный... трогательный... и гениальный!"
Так написал о нем один из самых известных питерских эссеистов Самуил
Лурье: «Дамы влюблялись в него не пылко и ненадолго: слишком был
безобидный, совсем без демонизма. Разве что капризный, а в сущности
— смешно сказать о поэте — кроткий. Вообще почти смешной: телосложение
пингвина, походка, как у Чарли Чаплина. Повадка щегла — лицо донельзя
человеческое — и божественный ум! Ни одна не бывала с ним счастлива
— но так весело не было ни с кем.
Ты запрокидываешь голову
—
Затем, что ты гордец и враль.
Какого спутника веселого
Привел мне нынешний февраль! — писала Цветаева».
«Тоненький, щуплый, с узкой
головой на длинной шее, с волосами, похожими на пух, с острым носиком
и сияющими глазами, он ходил на цыпочках и напоминал задорного петуха.
Появлялся неожиданно, с хохотом рассказывал о новой свалившейся
на него беде, потом замолкал, вскакивал и таинственно шептал: «Я
написал новые стихи». Закидывал голову, выставляя вперед острый
подбородок, закрывал глаза — у него были веки прозрачные, как у
птиц, и редкие длинные ресницы веером, — и раздавался его удивительный
голос, высокий и взволнованный, его протяжное пение, похожее на
заклинание или молитву. Читая стихи, он погружался в «аполлинический
сон», опьянялся звуками и ритмом. И когда кончал, смущенно открывал
глаза, просыпался» (Константин Мочульский).
Эти и многие другие свидетельства позволяют прейти к более общему
рассмотрению психо-эмоционального портрета Мандельштама. У Арсения
Тарковского есть стихотворение, в котором выразительно запечатлен
неповторимый облик О. Мандельштама:
Эту книгу мне когда-то
В коридоре Госиздата
Подарил один поэт;
Книга порвана, измята,
И в живых поэта нет.
Говорили, что в обличье
У поэта нечто птичье
И египетское есть;
Было нищее величье
И задерганная честь.
Как боялся он пространства
Коридоров! Постоянства
Кредиторов! Он, как дар,
В диком приступе жеманства
Принимал свой гонорар...
Гнутым словом забавлялся,
Птичьим клювом улыбался,
Встречных с лету брал в
зажим,
Одиночества боялся
И стихи читал чужим.
Мандельштам был истинным
аристократом духа – то есть высоким демократом по своему мировосприятию.
Его культура проницала и объединяла самые разные пласты социального
сознания. Он чрезвычайно ценил этот демократизм в русской литературе
– от Пушкина до Некрасова. В нем совершенно не было интеллектуального
снобизма и стремления отмежевать культуру от быта. Себя он сознавал
посланником русской и мировой культуры в новой эпохе, в повседневной
жизни, а культура была для него равнозначна абсолютной ответственности.
|